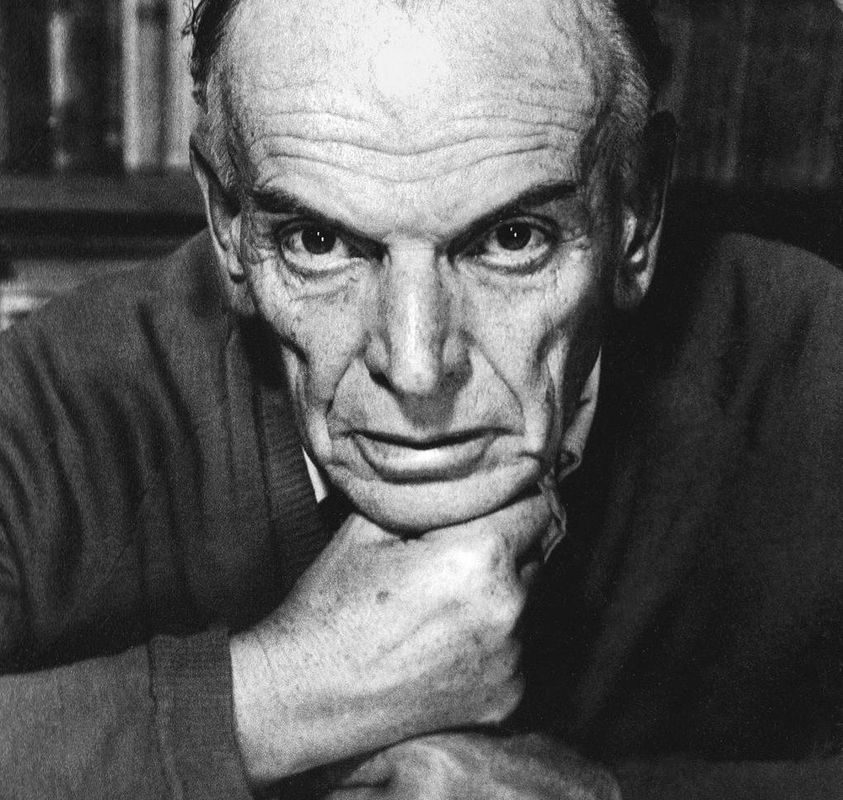Я человек довольно начитанный и потрёпанный. Удивить хорошей литературой меня трудно, — а тем более привести в восторг. Но вот и на старуху бывает проруха: во-первых, не сподобился ознакомиться раньше, во-вторых, пришёл в восторг, причём телячий, читая «Повесть о жизни» Паустовского.
Ей-же-ей, я уже не верил, что способен в своём нынешнем упадочном состоянии почувствовать волшебство литературы, — да и всерьёз задумывался над тем, что оно на самом деле лишь иллюзия, кружащий голову тонкий дым опиума. И вот это давно забытое ощущение, когда до глубокой ночи сидишь за книгой, позабыв всё и вся.
Мой добрый товарищ, поляк, на своём своеобразном русском языке называл красное вино красивым. «Наполеон лечился пивом, а мне для здоровья нужно пить красивое вино». Такой, скажем, пример словоупотребления.
Я вспомнил о красивом вине, когда погрузился в паустовский мемуар. Ощущения те же, когда с каждым глотком раскрывается вкус и открывается новая грань реальности. Абсолютно магическое произведение, абсолютно нетипичное для того бравурного времени.
Только Горький умел копать так глубоко и взлетать так высоко. И тоже от своего времени не отрекался, изранясь об него в горечь и кровь.
Писателей тогда называли инженерами человеческих душ. Инженер — человек, подчинённый целям производства и корпоративным стандартам.
Паустовский — никак не инженер. Он исследователь природы в человеке и человека в природе, созерцательный и деятельный одновременно путешественник, вдохновенно свободный очарованный странник.
И писал он сугубо о том, что его интересовало. Ленин его, к примеру, интересовал, он и оставил литературный портрет вождя. А вот о Сталине не черкнул ни строчки — в самые свирепые времена культа личности, когда инженеры человеческих душ повально пели Иосифу бесчисленные и несносные оды.
Он был самостоятельный писатель, Константин Георгиевич, самостоятельное и могучее литературное явление.
Жаль, кстати, что не черкнул, потому что в описании Паустовского одинаково и безумно интересны что Ленин, что Врубель, что полупьяный шарманщик из киевского оврага, что жук-водомерка. Драгоценная способность смотреть на существа, явления и вещи незамутнёнными, детскими глазами, с первозданной свежестью осознавая их неисчерпаемость. Он, конечно же, мистик, Паустовский, только имманентный, а не салонный.
Я, признаться, думал, что он переделкинского типа совпис, номенклатурный разъяснитель мейнстримных истин и зевательный автор описаний природы (сиречь собственных собак и охот). Создатель произведений, что предназначены преимущественно для мающихся детей, потому что дети лишены способности сопротивляться.
Я оказался сугубым и постыдным невеждой.
Очевидно, консенсусно, исторически и бытийно устоявшиеся, хрестоматийные дела и предметы — в сущности, такая же загадка, как очевидно неустоявшиеся. Потому что бытие — само по себе неисчерпаемая загадка. Паустовский, о чём бы ни писал в монументальном мемуаре своём, переполнен ощущением этой загадки. Оттого историю своей жизни он всегда описывает с неожиданной точки зрения, живописно и свежо.
Мне давно уже пора заткнуться и просто посоветовать вам прочитать эту великолепную книгу, счастливо насыщенную энергией жизни. Цитировать её не нужно: нужно читать полностью. Тем более что приводить цитаты можно без конца.
Но я всё-таки не удержусь и приведу фрагмент, в подтверждение позапредыдущего абзаца, ну или просто потому, что хочется поделиться.
Вот так мастер описывает восемнадцатый год в Москве, год революционного безвременья, войны и разрухи:
Ноевский сад с давних времен славился цветоводством. Постепенно оно беднело, глохло, и к началу революции в саду осталась одна небольшая оранжерея. Но в ней все же работали какие-то пожилые женщины и старый садовник. Они скоро привыкли ко мне и даже начали разговаривать со мной о своих делах.
Садовник жаловался, что сейчас цветы нужны только для похорон и торжественных заседаний. Каждый раз, когда он заговаривал об этом, одна из женщин — худая, с бледными светлыми глазами — как бы смущалась за него и говорила мне, что очень скоро они наверняка будут выращивать цветы для городских скверов и для продажи всем гражданам.
— Что бы вы ни говорили, — убеждала меня женщина, хотя я и не возражал ей, — а без цветов человеку обойтись невозможно. Вот, скажем, были, есть и будут влюбленные. А как лучше выразить свою любовь, как не цветами? Наша профессия никогда не умрет.
Иногда садовник срезал мне несколько левкоев или махровых гвоздик. Я стеснялся везти их через голодную и озабоченную Москву и потому всегда заворачивал в бумагу очень тщательно и так хитро, чтобы нельзя было догадаться, что в пакете у меня цветы.
Однажды в трамвае пакет надорвался. Я не заметил этого, пока пожилая женщина в белой косынке не спросила меня:
— И где это вы сейчас достали такую прелесть?
— Осторожнее их держите, — предупредила кондукторша, — а то затолкают вас и все цветы помнут. Знаете, какой у нас народ.
— Кто это затолкает? — вызывающе спросил матрос с патронташем на поясе и тотчас же ощетинился на точильщика, пробиравшегося сквозь толпу пассажиров со своим точильным станком. — Куда лезешь! Видишь — цветы. Растяпа!
— Гляди, какой чувствительный! — огрызнулся точильщик, но, видимо, только для того, чтобы соблюсти достоинство. — А еще флотский!
— Ты на флотских не бросайся! А то недолго и глаза тебе протереть!
— Господи, из-за цветов и то лаются! — вздохнула молодая женщина с грудным ребенком. — Мой муж, уж на что — серьезный, солидный, а принес мне в родильный дом черемуху, когда я родила вот этого, первенького.
Кто-то судорожно дышал у меня за спиной, и я услышал шепот, такой тихий, что не сразу сообразил, откуда он идет. Я оглянулся. Позади меня стояла бледная девочка лет десяти в выцветшем розовом платье и умоляюще смотрела на меня круглыми серыми, как оловянные плошки, глазами.
— Дяденька, — сказала она сипло и таинственно, — дайте цветочек! Ну, пожалуйста, дайте.
Я дал ей махровую гвоздику. Под завистливый и возмущенный говор пассажиров девочка начала отчаянно продираться к задней площадке, выскочила на ходу из вагона и исчезла.
— Совсем ошалела! — сказала кондукторша. — Дура ненормальная! Так каждый бы попросил цветок, если бы совесть ему позволяла.
Я вынул из букета и подал кондукторше вторую гвоздику. Пожилая кондукторша покраснела до слез и опустила на цветок сияющие глаза.
Тотчас несколько рук молча потянулись ко мне. Я роздал весь букет и вдруг увидел в обшарпанном вагоне трамвая столько блеска в глазах, приветливых улыбок, столько восхищения, сколько не встречал, кажется, никогда ни до этого случая, ни после. Как будто в грязный этот вагон ворвалось ослепительное солнце и принесло молодость всем этим утомленным и озабоченным людям. Мне желали счастья, здоровья, самой красивой невесты и еще невесть чего.
Пожилой костлявый человек в поношенной черной куртке низко наклонил стриженую голову, открыл парусиновый портфель, бережно спрятал в него цветок, и мне показалось, что на засаленный портфель упала слеза.
Я не мог этого выдержать и выскочил на ходу из трамвая.
Владимир МИРОНЕНКО
Материал по теме: