Безусловной истиной является то, что коллективная психология каждого народа обусловлена, в основном, уровнем его экономического развития. Но только лишь в основном. Вульгарная социология любит забывать, что само существование человечества покоится на двуединой опоре – на производстве предметов потребления и на воспроизводстве человеческой жизни, составляющих в сущности нерушимое единство, но каждый раз единство, состоящее из ведущего и ведомого. И если на протяжении всей новейшей части истории человечества ведущим был фактор экономического производства, то это нисколько не отменяет того факта, что в эпоху человеческого детства именно воспроизводство людей являлось центральным столпом нашей конструкции.
Между людьми, которые учились в одной школе и в одном университете, между людьми, получившими одинаковое воспитание, безусловно будет очень много общего. Но также будет что-то общее и между людьми, которые проведя вместе первые годы своей жизни были затем надолго разлучены. В первом случае это будут две башни, различные в мелочах, но с одинаковым внутренним стержнем; во втором случае мы увидим две совершенно разные башни, но с похожими до безумства пилястрами. Так обстоит дело и с народами.
Две нации могут избрать себе совершенно разные системы государственного устройства, порой совершенно противоположные одна одной, но если младенчество этих наций прошло в одинаковых природных условиях, то связь между ними будет продолжать сохраняться, несмотря на все историко-экономические перипетии. Так в сущности смотрела прогрессивно-демократическая критика на взаимоотношения природного и экономического в национальном…
Нисколько не умоляя достоинства иных мест необъятной Европы, Чернышевский (а позже эту тему стал прорабатывать и Луначарский) вполне справедливо видел наибольшую красу, очаровательный блеск, живость и яркость, наибольшую доброту природы к человеку в той географической зоне, которая нынче зовется побережьем Южной Европы (Андалусия, Лангедок, Сицилия, Эллада, Причерноморье). Можно сказать, что народам, которые основали там свои первые поселения действительно повезло с родителями. Они смогли прочувствовать дух относительно беззаботного детства, безмятежности, простора…
Но это младенческое счастье очень вскоре обернулось страшной трагедией. Те народы, чье детство проходило в условиях сурового севера, не прохлаждались. Они, добывая с трудом каждый кусочек еды, точили ножи и с завистью смотрели на богатство своих южных соседей. В конечном итоге грубая сила северных варваров подавила юг, истерзала его, унизила, но вместе с тем еще крепче связала между собой уже расходившееся между собой народы побережья, ибо столь жесткое начало взросления их привило им всем глубокое чувство социальной справедливости и демократизма.
Естественно, что русскую народность южной назвать никто не может.
«И юг России — север»[1]. Но к счастью, существуют все-таки и на этой северной окраине Европы отдельные островки, которые пусть и не весь год, но все-таки какую-то определенную часть года являются по своей природе южными. «Хорош, хорош здешний край, когда не зима. Весною и два месяца осенью здесь у вас — это Лангедок летом, это Ломбардия летом. А летом здесь —Тосконя; лучше Тоскани — Неаполь, Андалузия; по крайней мере, в ясную погоду, у вас здесь действительно лучше Тоскони, Андалузия»[2].
Догадаться, конечно, сложновато, но речь идет о Нижнем Поволжье. Впрочем, если знать, что переселенцы из причерноморских степей, гонимые малоземельем и самовластьем местных чиновников, очень часто в качестве своего нового места жительства выбирали именно эту приволжскую землю, то удивляться таким сравнениям придется гораздо меньше. Будучи, в общем и целом, подчиненным общим особенностям развития экономической жизни русского народа, местное население должно было неизбежно испытать и определенное влияние природы. «Я расположен, наперекор господствующему мнению, думать, что оно выгодно»[3]. Иными словами это можно выразить следующим образом: хотя, конечно, появление тех людей, именем которых славятся Саратов и Симбирск, вызвано всем ходом экономического прогресса русского общества, отнюдь не случайно, что эти люди появились именно в Саратове и Симбирске.
Впрочем, даже если они выросли и там, то трудились все-таки в тех городах и регионах, которые были более подходящими для общественной деятельности по экономическим причинам, а не по географическим особенностям. В этом от них не отличается и Владимир Васильевич, приехавший из далекой эмиграции на родину лишь по одному важному делу.
Какому? Спасти свою сестру, Аврору Васильевну от тлетворного влияния матери, живущей лишь одними мещанскими пустяками да желанием поскорее женить/выдать замуж детей (этих разговоров столь много, что всякий читатель к концу первой части начинает уповать на то, чтобы эта женщина поскорее закончила говорить и отпустила героя наконец-то заняться своими важными делами). Сделать ее независимым человеком, освободить от гнусного влияния окружающей ее человеческой среды, пускай даже против ее воли. В этом Владимир Васильевич абсолютно бескомпромиссен. «Всякое слово ее закон для меня, но кроме тех слов, которые — отречение ее от свободы. Я не признаю права человека отрекаться от свободы. Лоренька до сих пор не имела возможности быть свободным человеком. То есть, при ее характере, это было невозможно для нее. Были обязанности, которые мешали ей в этом. Или, не то что обязанности, а обстоятельства»[4]. Точно также Николай Гаврилович говорил и в романе «Алферьев», отмечая, что «большая часть женщин, делающихся порядочными, делаются порядочными в убыток своему довольству своею судьбою, — часто в погибель своему счастью»[5].
В чем же в таком случае заключается суть философской концепции свободы в понимании Чернышевского? Ответ нужно искать в условиях общественной жизни тогдашней России. В стране темного и безграмотного крестьянства глупо было надеяться, что идеи социального освобождения ясно овладеют подавляющим большинством населения. Решающую роль в изменении социальной системы должно было играть наиболее передовое радикальное меньшинство, которое, взяв власть с помощью стихийного селянского восстания или иностранного вторжения, стало бы декретировано, порой даже из-под палки, если на то будет крайняя необходимость, учить массы азам гражданственности.
Гегелевская формулировка свободы как осознанной необходимости, самостоятельного (индивидуального) пути человека к пониманию неминуемых процессов бытия в данном случае не представляется релевантной, ибо сам человек еще не вырос до возможности мыслить такими категориями. Мы не можем предоставить свободу действий ребенку, иначе он объесться сладостей, подхватит какую-нибудь инфекцию и расшибется. Ясное дело, что мы не позволим ему так сделать и тем самым нарушим его довольство судьбой и лишим его счастья. Поплачет он после этого? Безусловно. Но в будущем будет порядочным человеком.
Точно так же мы не будем оставлять в покое и взрослого человека, который очень любит свои кандалы. Мы их разобьем и поможем ему начать новую действительно нерабскую (=свободную) жизнь, пускай ему даже будет и тяжело ее начинать. Якобинство? В какой-то степени… Насколько верно? Наверное, в эпоху безнадежной летаргии общества победить можно было только так.
Парадокс той эпохи заключался в том, чтохотя «века рабства настолько забили и притупили крестьянские массы, что они были неспособны во время реформы ни на что, кроме раздробленных, единичных восстаний, скорее даже «бунтов», не освещенных никаким политическим сознанием»[6], но «были и тогда уже в России революционеры, стоявшие на стороне крестьянства. Во главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров стоял Чернышевский»[7]. Что же делать, когда массы тотально пассивны, спят, находятся в летаргии, но при этом есть крохотный передовой авангард, силы которого перед властью царской машины просто ничтожны?
Из этого парадоксального положения тогдашнего российского общества неизбежно вытекало другое, а именно выходило так, что
«по общим своим политическим взглядам Чернышевский стоял близко к бланкизму — к бланкизму не в том смысле, какой это слово получило впоследствии и доныне употребляется в разговорном языке, а скорее в том смысле, в каком понимал его Маркс, когда признавал бланкистов истинными представителями революционного пролетариата… Бланкисты держались той точки зрения, что меньшинство сильно лишь постольку, поскольку оно верно выражает если не стремления, то, по крайней мере, интересы трудящегося большинства. На этой же точке зрения, единственно возможной для эпох, характеризующихся пассивностью народной массы, По-видимому, стоял и Чернышевский.. В активность масс, в способность их к широкой политической инициативе он, как мы знаем, мало верил. Но он полагал, что в те исторические периоды, когда задеты насущные интересы этих масс — главным образом интересы экономические, особенно для них близкие, чувствительные и понятные, — они способны приходить в движение и во всяком случае послужить опорой для сознательного меньшинства, склонного к решительной инициативе…»[8].
Однако же в реальности этого не случилось. 1853-1856 и 1861 лишь немного потрясли царизм, не вызвав его краха. Почему? Чернышевский объяснял удар слишком слабым. Слишком слабой была катастрофа, слишком легкой была гроза. Им не доставало той разрушительной силы, которая могла разрушить стену, убить Левиафана и тем самым создать гибкость форм, при которой только и была возможной действительная борьба прогрессивно-демократической партии за влияние на массы.
Именно в этом заключалась главная задача Николая Гавриловича – в приближении мощной освежительной бури. Именно поэтому сама повесть носит название «Отблески сияния». Самого сияния (того самого, которое было в четвертом сне Веры Павловны и наступление которого возможно лишь после грозы) мы тут не увидим. Мы знакомимся лишь с его бледным отблеском (эти отблески иногда могут появляться даже на темном небе, вспомним, например, полярные сияния. Но, черт побери, эти сияния же никак не изменяют того факта, что небо продолжает оставаться по своей природе глубоко черным), с фабрикой по производству варенья, которой руководит Аврора Васильевна. В отличие от швейной Веры Павловны эта фабрика основана не на коллективистских началах, а является предприятием, где господствует вольнонаемный труд.
Но этот вольнонаемный труд там был особого типа, это был тот труд, который господствовал на фабрике Роберта Оуэна и на лучших предприятиях Северо-Американских Соединенных Штатов, где поощрялось образование рабочих и где сокращался их рабочий день. Иными словами, Чернышевский пропагандировал в повести образец промышленного развития, которого тогда очень не хватало Старому Свету.
Николай Гаврилович действительно верил в то, что и у России сохраняется возможность пойти по пути североамериканской демократии (а не по прусскому псевдо-конституционализму). Понятное дело, что он не считал тогдашний американский строй идеальной общественной системой, но он видел в ней определенный отблеск будущего, рассматривал ее как возможный переходный этап к обществу, за которое он действительно боролся, к обществу, в котором свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех.
Не лишним будет на полях отметить, что в качестве менеджеров предприятия (которые также относят себя к новым людям) там выступают дочери семьи религиозных сектантов, что как бы тоже намекает на необходимость смены в тогдашней России определенной парадигмы, с феодально-патриархальной на протестантско-деловитую, перерастающую затем уже в революционно-демократическую. Особенно ярко этот призыв звучит в размышлениях главного героя о растущих платанах. Несмотря на тяжелое горе, вызванное поражением Парижской Коммуны, несмотря на наступление эпохи реакции, несмотря на мещанство окружающих Владимир Васильевич произносит те слова, которые с огромной силой вселяют надежду в грядущую победу. Как бы они не были длинными, но не процитировать их мы не можем. Ибо в них сама суть Чернышевского, сама суть прогрессивной демократии:
«Он был уже почти на половине своего пути от южного конца веранды к липовой аллее, шел мимо выдававшегося много вперед по ширине террасы боскета американских платанов с южной стороны от аллеи:— и по ту и по другую сторону аллеи, перед рядами окаймляющих окраину ровного уступа дубов, вязов и ясеней был на поляне боскет этих прелестных деревьев Нового Света, достойных родных тем платанам, аллеями и рощами которых гордились во времена своей славы передовые области Древней Греции.
Еще очень молоды они, эти действительно прелестные деревья, но уже высокие они, и какие густые! Ясно, что здешний край вполне пригоден для них. Трудно было перенести их сюда. Много смелости, много исследований, заботливого внимания требовал первый опыт. Но акклиматизированные им здесь, они растут уже легко, без особенного ухода за ними. Теперь, всем, кто пожелает, остается лишь пользоваться готовым: посадить — и только; они будут расти; расти и разрастаться кругом, сами собою, не требуя хлопот.
Они могут сделаться в здешнем крае деревьями не парков только, но и простых лесов. Начинают ли другие парки здесь быть украшаемы боскетами их? И если начали, то скоро ли боскеты их в других парках начнут, как начали в этом, быть расширяемы в целые рощи? И когда будут во всех парках здесь целые рощи их, скоро ли начнут они из рощ парков расширяться повсюду здесь в сплошные леса, простые сплошные леса? — Скоро или нет будет это, но будет. И если не увидят наши глаза, видит наша мысль: будут здесь платановые леса. Тогда, характер края станет иной; весь край возродится к новой, лучшей жизни»[9].
Роман ГАЛЕНКИН
[1] Н. Г. Чернышевский, «Отблески сияния»
[2] Там же
[3] Там же
[4] Там же
[5] Н. Г. Чернышевский, «Алферьев»
[6] В. И. Ленин, «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция»
[7] Там же
[8] В. И. Ленин, «Ю. М. Стеклов. «Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность (1828—1889)»»
[9] Н. Г. Чернышевский, «Отблески сияния»

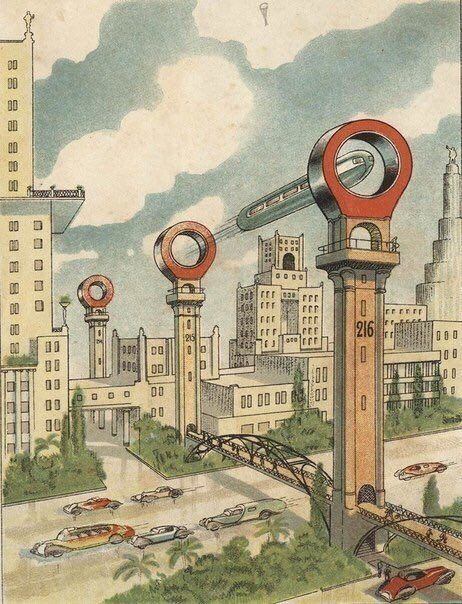



«Бланкисты держались той точки зрения, что меньшинство сильно лишь постольку, поскольку оно верно выражает если не стремления, то, по крайней мере, интересы трудящегося большинства»
И сейчас это утверждение истинно. Тем более, что цитата ленинская.
«Понятное дело, что он не считал тогдашний американский строй идеальной общественной системой, но он видел в ней определенный отблеск будущего»
В начале 19 века в США многими рабочими, фермерами наёмный труд (в отличие от сдельного труда) и хищническое поведение капиталистов (заработок возможен только при пользе обществу: капиталист обязан построить железную дорогу, инфраструктуру) презирались, и в этом был подлинный отблеск будущего.
***Безусловной истиной является то, что коллективная психология каждого народа обусловлена, в основном, уровнем его экономического развития.***
Антинаучная бредятина.
Высказывание автора противоречит фактам как на уровне кареотипа популяции, так и на уровне генома отдельной особи. Евреи как были евреями независимо от личного состояния, так ими и остаются. Негры от богатства тоже не светлеют, не становятся русскими или китайцами, а так и остаются кем были. Сохраняя те-же самые способности к музыке и сексу. Как и любая собака останется собакой независимо от того богат ее хозяин или беден.
***Между людьми, которые учились в одной школе и в одном университете, между людьми, получившими одинаковое воспитание, безусловно будет очень много общего. ***
Пук мозгом.
Из одной и той же системы военной академии выходит маньяк убийца Устименко и профессора, завсевфлотом, адмирал Устименко. Общего между ними вообще ничего. Разве, что по ночам обычно спали и ели по утрам.
****Решающую роль в изменении социальной системы должно было играть наиболее передовое радикальное меньшинство, которое, взяв власть с помощью стихийного селянского восстания или иностранного вторжения, стало бы декретировано, порой даже из-под палки, если на то будет крайняя необходимость, учить массы азам гражданственности. ***
Клинический идиотизм.
В изменении общества для самого себя должно участвовать все общество. И его инертность как раз и является защитой от дураков-якобинцев с манией величия, решивших «осчастливить» нард очередным переворотом. Любые изменения общественной биологической системы должны производиться постепенно и без принуждения. Это делается путем создания условий и питания. Далее геном сам развивается эволюционируя в рамках кареотипа. А если вытягивать траву из земли чтобы быстрее росла, то заканчивается отрывом ботвы и гибелью корня. Балбесы марксисты биологию не изучают — зачем им наука? Швондеры лекцию прочитают в стиле этой статьи и достаточно чтобы пойти на гоп-стоп под красным флажком.
***Мы не можем предоставить свободу действий ребенку, иначе он объесться сладостей, подхватит какую-нибудь инфекцию и расшибется. Ясное дело, что мы не позволим ему так сделать и тем самым нарушим его довольство судьбой и лишим его счастья. Поплачет он после этого? Безусловно. Но в будущем будет порядочным человеком.***
Антинаучный бред.
В Японии детям специально позволяют до 3 лет делать все. Едят конфеты без меры и потом блюют. Ползают по полу и лижут его вместе с грязными руками. Заражаются и болеют приобретая очень стойкий иммунитет. И ставят психику в норму тем, что начинают жизнь ребенка с тюремного заключения в пеленки. Зато из тех кого плотно пеленают и все запрещают вырастают невротики и психопаты. Которым хочется все время бегать со спичками поджигая мир разными лозунгами.
ps
Статья построена на логике необразованного психопата.
И ставят психику в норму тем, что НЕ начинают жизнь ребенка с тюремного заключения в пеленки.
Пропустил НЕ в первоначальном сообщении.
Марк, смешон ваш «позитивизм головного мозга» в лице буржуазной психологии. Марксистская психология доказала, что человеческая психика формируется исключительно через воспитание (нет ничего врожденного). Если нет у вас сил вести интеллигентный спор, а не спор торгашей на базаре с обсценной лексикой, выходите из комнаты.
***Марксистская психология доказала, что человеческая психика формируется исключительно через воспитание (нет ничего врожденного).***
Мировой науке известен факт — кто был никем = тот никем и останется.
Сие есть генетика. И как говорил наш завкафедрой генетики тем студентам, кто не обладал хорошей памятью — «Все претензии к заводу изготовителю». Так вот не воспитание, а определяет все, а генотип и его рамки. И если эти рамки по своему диапазону позволяют воспитать нечто, то это можно сделать. Но не наоборот. Именно поэтому даже при Ваших марксистах умные люди находящиеся у руля высшего образования в консерватории не принимали без слуха. В большой спорт не брали доходяг. А в университет Ломоносова не принимали олигофренов.
Несмотря на 100% всемирные доказательства антинаучности марксизма Вы продолжаете нести ложь в народ. Прекрасно зная, что ни в одной стране мира марксизм не выжил ибо изначально не был основан на научном подходе. Не случайно Маркс пытался прилипнуть к Дарвину, а Дарвин открещивался от Маркса как от чумного. За десятилетия нечеловеческого эксперимента над миллионами людей марксизм везде и на 100% доказал, что без фашистского режима он не работает. Он даже при фашизме и то долго не работает.
Вы постоянно шельмуете тему социального государства и марксизма смешивая их вместе. Словно лукавый инквизитор окрашивая в единый цвет чистую любовь и грязный блуд. И утверждаете, что это одно и то-же. Вы считаете обман народа марксистам шарлатанством и насилие над людьми интеллигентным поведением? Вы даже не сможете назвать ни одного коммунистического царька, который бы принес реально большую пользу без насилия и без крови. Все марксисты запятнали себя как аморальные подонки, неучи и насильники. И до сих пор последователи марксизма регулярно совершают преступления подпадающие под действие уголовного кодекса РФ.
Вы делите людей на классы = Статья 282 УК РФ.
«Возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.»
В своих статьях тут Вы пропагандируете Сталина = Статья 19.8 УК РФ.
«Распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.»
Вы обеляете преступления компартии СССР = Статья 15.3 УК РФ.
«Запрет на распространение в СМИ и сети «Интернет» заведомо ложной общественно-значимой информации».
В марксистский мозг не влезает, что закон касается всех. И что стремясь к чему либо хорошему это делать надо только по хорошему. И обязательно подключая научные данные и академически верифицированные методы проверки любых теорий — !!! ДО !!! — любых попыток их внедрения на людях.
Если Вам хочется делать нечто полезное — давайте объединять усилия и ставить задачи. Совместно искать мирные и умные, научно не противоречивые способы решения. И прежде всего спрашивать наш народ, о том, что ему нужно и чего он не хочет. Не присваивая себе манию величия и решая за народ как его заставить быть счастливым.
Марк, с таким придумыванием фактов уж точно научная статья по генетике не получится, рецензенты не допустят. Уж сколько мошенничества сейчас при научных публикациях, даже в журналах Nature и Springer.
А ваша антисоветская злоба только доказывает бессилие в споре.
***антисоветская злоба***
Я правильно понимаю, что все должны быть рады зверствам Сталина, геноциду умных людей, Гулагу, репрессиям, расстрелу детей Романовых, талонам на продукты, очередям из-за сплошного дефицита всего, массовому народному алкоголизму и прочей мерзости организованной марксистами? Мы должны быть все этому рады? А если кто не рад, то у него «антисоветская злоба»?
Вы уж покажите все свое истинное лицо не скрывая звериного оскала марксиста.