В Доме Ростовых прошёл совместный поэтический вечер Николая Барабанова и Алексея Кольчугина, сопровождавшийся короткометражными показами фильма Николая «Ночи белые» (музыка – Кольчугина) и клипа «Мой Город Моей Мечты» (авторства Барабанова на композицию Кольчугина). И это событие могло бы потеряться в светской хронике лета 2022-го, но… Это мои давние товарищи, и потому немного углубиться в тему хочется. Тем более что на вечере состоялась в самой ненавязчивой форме презентация новой книги стихов Николая – «Анна» (Москва, «Эдитус», 2022).
Тут, конечно, потребуется небольшая преамбула, поскольку поэтический материал свежий, а без предыстории будет неполным, если не непонятным. И Кольчугин, и Барабанов в боевых нулевых были (а Алексей и остаётся) голосами двух групп, без которых немыслим исторический портрет первого поколения Московской рок-коммуны (МРК). «Разнузданные Волей» и «Анклав», соответственно, выступали не раз на площадях многих городов страны вместе с моим «Эшелоном» и без него (как на питерском «Антисаммите» 2006-го). Ни одна акция «Антикапитализм» не обходилась без них с 2002-го по 2005-й год – а концерты, завершавшие марши, проходили на Славянской площади обычно. За это время и «Анклав», и «Разнузданные Волей» записали по студийному альбому, но безусловно их творчество и началось до МРК, и продолжалось вне её. Эти пути мы, научившись в нулевых понимать поэтический язык друг друга, отслеживаем. Коллективное творчество и действие приучает «ловить волну», как в финале фильма «Парад планет»: «Карабин!.. Кустанай!..»
Анна (Unknown)

Книга Николая, на мой взгляд, является этапной, поэтому начну с неё. Рок-период «Анклава» был для Николая, как и для родного его брата Егора – основной точкой приложения сил. Все стихи, если не попадали в песни, то как бы кружились около, громкий жанр создавал ядро. Стихи были вторичны. В песнях легко читалось «перо» Николая, особенно в последнем альбоме «Борец против своего времени» 2011-го года. Например, «Фальшивые голуби» (где музыка Егора прекрасно оформила недостаточно чётко слышные слова Николая) и «Этот камень мёртв» (своеобразное прощание с рок-ипостасью, если помнить моррисоновское или же мэнсоновское Rock is dead) – и, как мне всё настойчивее кажется, нечёткость эта повлекла за собою дальнейшие ипостаси. Петь с полной эмоциональной выкладкой, но на выходе, когда слова «остывают», терять их чёткость – испытание для поэта. Я вот до сих пор гадаю над словами в песнях «Всё только началось», «Колыбельная» (слыша при том чёткую христианскую проповедь)… Желание быть даже не услышанным, а именно понятым – переживёт любую форму.
Первой было кино: Николай пошёл учиться на высшие курсы ВГИКа к самому Себастьяну Аларкону («Ночь над Чили», 1977), который в процессе этой учёбы запечатлел «Анклав» в одном из своих последних фильмов «Косухи». Фильм нестареющего чилийского романтика и бунтаря о молодёжи нулевых-десятых годов – с попыткой классового анализа, с долей скепсиса. Николай искал, и нашёл свой стиль – он оказался ближе к чёрно-белому кино, в «Белых ночах» и описании работы над фильмом, стиль онтологически раскрылся. «Простота без пестроты», как у Феофана Грека в «Андрее Рублёве» – пёстрое трудно монтировать, цвет отвлекает.
Впору вспомнить Джима Моррисона, который из кино ушёл в рок-музыку, у Николая же всё наоборот. И теперь, как тот Моррисон, он в очень скромном издании принёс стихи, которые именно стихи, и об «Анклаве» совершенно не напоминают. А это большой труд – отделить свой прежний «кокон». Это происходило и на уровне внешности – когда-то Николай намеренно копировал длинноволосый и вокальный стиль Кобэйна, сейчас он коротковолос, цивилен… Тут пора уже зазвучать стихам.
Пой моё тёплое больное тело душе То же, что и пело раньше, - Ни веселее, ни горше.. Уже не поздно, не рано уже, - Уравнение ранами разрешается сложно..
Отсутствие знаков препинания в первой строке не случайно – это давний стиль и требование слитного звучания. Звучания весьма музыкального – аллитераций и игры с ударениями там много. Причём нам-то явился стиль сей в 90-х, в союзе молодых литераторов «Вавилон». Есть и авторское, новаторское: двоеточие вместо троеточия, экономность. Вместо трёх звёздочек над безымянными стихами – две. Тоже по духу «вавилонское». На слух стихи Николая так не воспринимаются – звучат как монотонная «духовная поэзия», в которой форма принесена в жертву сути. Здесь же, именно в тексте и тишине – обнаруживаешь массу созвучий и находишь то пространство (не только смысловое), создать которое и есть сверхзадача поэта.
Так вот: в «Вавилоне» того самого Димы Кузьмина, что ныне прибалт-эмигрант, мы учились не только плохому. Чуткость к слову на авторских вечерах «Авторник» — вырабатывалась потрясающая. В 1996-м я только слушал, я учился и томился в библиотеке, в Большом Кисельном – но когда освоил этот сложный язык верлибра, то научился всё читать иначе, и писать, как мне казалось, смелее и заковыристее классиков «Вавилона». Ими были в период 1996-99 Андрей Сергеев, поэт и переводчик, близкий друг Бродского, Станислав Львовский, Дмитрий Воденников, Вера Павлова, Сергей Гандлевский (иногда заглядывал на правах звезды), Вячеслав Курицын (пророк Пелевина), Михаил Нилин, Николай Байтов, позже Данила Давыдов и Ирина Шостаковская.
Прочитав несколько стихотворений Николая, пропитанных и самоиронией, и болью, и исканием, и религиозно обрамлённым нигилизмом – я понял, что книга эта должна была выйти во второй половине 90-х или самом начале нулевых, в кузьминской серии Ex Ungue Leonem издательства «Арго-Риск». Это тот язык в широком смысле (точнее – многозначность, система значений, христианских символов и даже умолчаний, закономерностей редкой рифмы), который знали и понимали обитатели «Вавилона», на который они отзывались новыми, причём весьма разными стихотворениями и реже прозой. Сейчас же эти стихи поймут немногие, но кто поймёт, тот «дорого возьмёт».
В начале было слово, и слово было у Бога.. Затем слов стало много, И текст схватил тайну за голову.. Как отыскать в стоге то Первое слово?
Есть тяготение к афористичности, и это хорошо. Есть напускное возрастное, «мальчик с седой бородой», и оно смотрится понятно, но инфантильно. Но главное – есть единый смыслозвук, то есть авторский язык, с первой страницы начинающий свою игру и предлагающий свои правила. Шутливость тут горькая – ведь Николай пережил такое, как раз на пике условных, вышедших за рамки десятилетия боевых нулевых, после чего многие вовсе замолкают. Но, как это и бывает, «и если бывает, то бывает хорошо» (Е.Летов) — само название книги делает её и посвящением (с одноимённым стихотворением, глубоко личным, в отличие от игриво-нигилистских циклов), и одновременно дневником выжившего в автокатастрофе. Извне это было – и у Моррисона (в фильме Оливера Стоуна «Двери»), и даже у меня в 1998-м, см. «Путь в Оптину пустынь», — а у Николая это было изнутри. Как в собственной песне «Анклава» — «Страшно не умереть»…
Потому совершенно новый вес каждой строки (при досадных опечатках в двух местах мне попавшихся – отсутствие мягкого знака в глаголах) его поймут немногие. Но мы понимаем, тот самый (рок-коммунарский) первичный круг, с которого и Высоцкий начинал (Андрей Тарковский, Василий Шукшин и другие) – подчёркивая, что на большее не рассчитывал, а лишь клал стихи на гитарную ритмическую основу.
Стихи Николая оживают, запоминаются именно как стихи, положенные в них мысли, часто парадоксы – нашли подобающее им пространство, шевелятся там, им тесно ровно настолько, чтобы вытянуться ввысь, к читателю. Преемственность с песнями «Анклава» есть, уже конечно без проповедей, но как философия витально завораживающего бытия и критически, мрачно преломляемого стихом быта. Есть даже немного о революции – что приятно удивило среди «дел житейских».
Рекомендую книгу «поствавилонским» поколениям (нулевых и десятых годов рождения), а поколению нынешних отцов она и так попадёт в руки. На обложке нет имени автора, в этом плане она аскетична и черна не только визуально, но внутри раскрывается свет не только страниц. Переклички со многими общеизвестными в нашем кругу поэтами там есть – и вышеупомянутый Моррисон (The Lords & The New creatures), и конечно Егор Летов. И советское кино как неиссякаемый цитатник в минисценарии: «Я шагаю по Москве, и мне 20 лет /Весь мир для меня, обо мне, /А кроме этого ничего нет.. Ни прошлого, ни будущего, — В кармане пачка сигарет, /Дел ровно на день, мысли ни о чём,/Глазею по сторонам,/Открываю любые двери плечом,/И ни во что не верю..» Там есть ещё 25, 30, 35 лет и красивый финал о душе, ждущей чтоб освободиться.
Но, как говорил в случаях сгущающейся метафизики актёр Юрий Назаров, «мне дорог Тарковский-реалист». Мне дорог Николай в нашем многообразном «вавилонском» столпотворении, в обрамлении действительности, его нестареющий подростковый голос с альбома 2011 года, в котором фатализма нет, а «Всё только началось». Зрелый Николай, правда, ответил себе же названием 5-го в книге цикла «Бесконечное начало вечного конца» (откуда стих про Слово выше). Но, уверен, только слитный, непрерывный субъект поэтического высказывания – переживёт пессимизм Постэпохи.
«Но верю в чудную кольчугу бессмертно закалённых рифм»
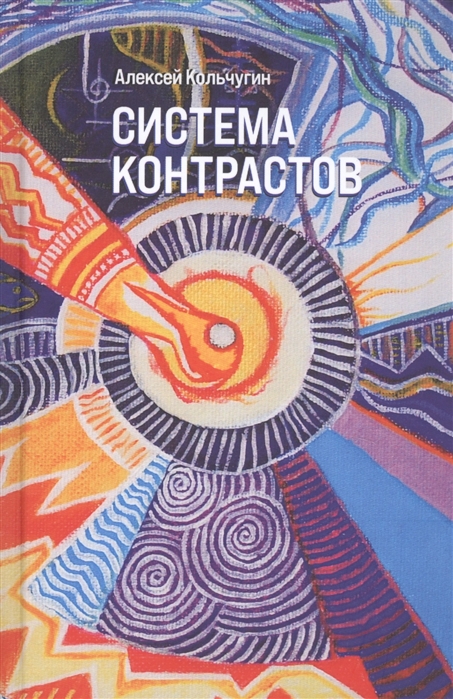
Эта строка Леонида Губанова была бы замечательным эпиграфом к данной книге, но Кольчугин и сам мастер по части конферанса, потому сразу перехожу к делу. Книга, выпущенная в издательстве, которое напечатало первую книгу Губанова в твёрдой обложке, — безусловно, лучше предыдущей не только по оформлению (иллюстрации и там и тут – Барабанова) и названию, но и по качеству отобранного материала. «Система контрастов» — звучит парадоксом, но интересным для разгадывания. А вот «Траектория кружения» — как какая-то подножка-тавтология, «роза ветров», слишком абстрактная для создания визуального образа, как гугл-перевод или подстрочник…
Стихи во второй книге пропорционально названиям и обложкам лучше. И всё равно – рокерская поза вокалиста Кольчугина, столь нужная и уместная на большой, открытой сцене (как бы советский знак качества – знак простершего руки к небу человека), здесь влезает отдельной новой буквой, слишком заглавной, и заслоняет буквы и целые строчки поскромнее. При том что изобразительность, наблюдательность у Кольчугина – замечательная. Поднятые к небу чтобы стать крыльями руки – сильной и стильной, надёжной лётной конструкции. Его лирический герой – это путешественник, полностью совпадающий с автором, и в этом, личном-то, как раз и богатый. Но есть ещё искусство речевого выхода за пределы эго – а тут обращённость не вовне, а на себя, порой сужает горизонты, заставляет повторЯться, торчать «Я» там, где должно быть иное…
Из открывающего книгу «Введения в Систему»: «…Раз за разом я падаю в эту бездну// Разбиваюсь, калечусь, но вновь возношусь – //Чтобы к ней вернуться, вновь в ней исчезнуть//Это РОК. Это жизнь. Это кайф… Это кайф, вам понятно?! Вашу мать!»
Столь толстой отсылки ко «Взломщику» и сцене побиения вагона Кинчевым я ещё не встречал. И одновременно к Моррисону, его Wake up.
Но тут контраст набрасывается на читателя ещё до того, чтобы было с чем контрастировать – лирики, «поэтического вещества»… Такого много. Дальше поэтического пера высовывается нечто слишком витальное и для письма не пригодное (как шутил в беседе с Гарросом почитаемый Кольчугиным Прилепин о подражателях Лимонову: одного этого органа маловато, чтоб стать писателем). Это плохо. Это громко. Отсюда нечувствительность к слову и падкость на пафос. Уж какие там аллитерации, припрятанные в середину строки рифмы, как у Николая?..
Надо бы посоветовать Алексею прочитать книгу «Загадка человеческого «Я»» Феликса Трофимовича Михайлова, но где её сыскать ныне, кроме университетских библиотек? В преамбуле к «Системе контрастов» говорится про альбом «Взгляд на Солнце» (2009), что книга как бы дополнение к нему – это, на мой взгляд, ошибка, опять сужение. Отсылка в наши боевые нулевые – но с лирической ревизией. Альбом-то безусловно замечательный, лучший и итоговый за нулевые у «РВ», о чём написано и мной, и не мной не раз – в него вложена масса творческих, материальных и духовных сил. Как его Алексей мучительно записывал, даже снимал жильё для инструменталистов и аранжировщиков, лишь бы пели их музы – отдельной бы книгой рассказать, но книга иной жанр. Тут нужно буквы выпустить из под собственной тени и теней музыкальных инструментов. Почитаемый Алексеем Моррисон это сумел сделать, как ни странно. И стих не конкурировал с песнями. Поэтому его переводили и переиздавали. Пессимистические, почти как у Барабанова, но и в нигилизме, и в грубости (Lament of my cock) красивые, поколенческие, весьма самостоятельные его стихи – легли в хронологии соязычных коллег, в эпиграфы.

Не может, не должна быть книга приложением к альбому, и наоборот. Все формы могут и должны жить по своим законам, и рекламировать себя в «смежных» профессиях – не дело для поэта. Впрочем, зная Кольчугина и его конструктивное упорство, даже упрямство, я уверен, что всё это не тупики, но этапы развития, роста, всё это, скорлупное, он проломит своим «знаком качества» и ещё дотянется туда, куда мы только мечтали долететь.
Увлечение Алексея именно звуковой ипостасью стиха – примерно тот же этап авторского развития, каким было кино для Николая. Долго сотрудничая с Фронтом радикального искусства (не пугайтесь – их корень radix), Алексей не только аранжировал произведения Михаила Красавина и прочих, умеющих себя позиционировать, поэтов, он учился этому самому позиционированию, вникал в нюансы дополнения строк звуками. Его манила интеллектуальность этой поэзии (мне лично отталкивавшая), эрудированность поэтов, видимо, потому что собственные хиты были местами простоваты, и попадание в ноту давалось не всегда (что водилось и в «Анклаве» со стороны Егора, отметим).
Он нашёл во ФРИ свой «Вавилон». Что ж, искусство саунд-поэзии Кольчугин освоил вполне, внимательно следя и за «Литпонами» Арса Пегаса в 2011-13, и вообще вживаясь в столичные поэтические круги. Результатом этого этапа и можно считать издание книги с нарочито выпадающими из неё «обложками неизданных альбомов» (как шутливо я бы назвал эти открытки, мечтательно самим себе отправленные из нулевых) – хотя, стихи-то сами охватывают дистанцию аж в 20 лет… Что поделаешь, я угадываю скепсис автора: не прозвучавшие стихи никто читать не будет, а саунд-поэзия может вести и в рок-ипостась. Организуя себя наподобие матрёшек, мы где-то, по мнению издателя Иванова (Ad Marginem), все самопозиционируемся на полках супермаркета, и являемся продуктами разной степени заморозки в доступе к современнику. В книге мне понравилось несколько стихотворений, причём некоторые – как раз с тем неизбывным эго. Я выбрал для чтения «Священный трепет» (см. видео только на сайте), а текстом рекомендую «титульное» (ниже).
Как мосток на остров всех разнузданных волей, на просторы наших боевых нулевых, роковых и площадных… «Что были вместе мы как сталь, когда нам было тяжело» (песня «Эй, друг!» со «Взгляда»). Да, это не о нём одном, а обо всех нас, живущих-творящих после «болотного периода». И замечательно, что Алексей звучит, а не молчит, полагая, как тот же Матвей Огулов («Союз Созидающих») что всё сказал! В обязательном порядке рекомендую книгу всему Ленинградскому рок-клубу, духом которого сильно заряжена поэзия Кольчугина, а так же продолжающей во втором поколении петь МРК.
Город безбрежен. Осень спокойна. Странствия метят в новое время. Время-река приветствует воинов, Время-река дарует прозрение. Всплеск над волною. Крылья по ветру. Ночь купол неба собой наполняет. Жадный глоток закатного света – Ночь окрыляет. Ночь опьяняет. Окон огни вплетаются в темень, В кружево город сплетается с ночью. Каждый узор подвластен системе – Системе контрастов, идей между строчек… Я тут как тут, прирожденный читатель. В осень смотрю как в пророчество рода. С ветром опавшие листья листаю, В них ключевое слово – СВОБОДА. Просит природа у неба награды, Взяв невпопад гениальную ноту. Сладкая горечь в этом распаде – Чувство побега. Чувство полёта… Больше не скажешь – и я растворяюсь В кружеве, в города с ночью сплетении. Века и мгновения в темень роняя, Время-река мне дарует прозрение.
Дмитрий ЧЁРНЫЙ





Один комментарий к “Оживающие в стихах голоса рок-героев боевых нулевых”